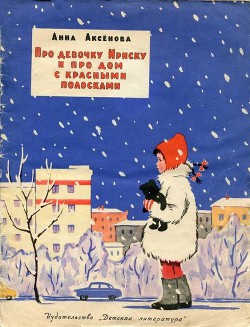во двор, они бросали свои игры и устремлялись к нему. Наперебой старались ему угодить, потрогать его, рассмешить. Он по очереди был их «сыном».
На Кузю никто из них и не смотрел. Кузя опять стоял у крыльца, ни с кем не играл и угрюмо следил за Павликом. Однажды Кузя и Павлик из-за чего-то поссорились — скорее всего, тут сказалась Кузина ревность, — факт тот, что Кузя двумя руками толкнул Павлика. Тот упал и заревел благим матом. Даже сквозь запечатанные окна было слышно.
И тут же около мальчиков возникла Вика. Она стала что-то выговаривать Кузе. Лицо у нее при этом было злое, нахмуренное. Потом она взяла Кузю за плечи, повернула к себе спиной и пихнула: уходи, мол. И Кузя побрел домой.
…Он сидел уставившись в одну точку и ни о чем не хотел разговаривать. Не захотел смотреть мультфильмы по телевизору и сам, чего раньше никогда не случалось, до срока попросился в постель. Оксана ходила с веселым лицом, старательно улыбаясь, что-то напевала. Напомнила Кузе, что в следующее воскресенье они идут в цирк. Тут же стала делиться воспоминаниями, как девочкой ходила в цирк. Придумала на ходу, что клоун попал ей мячом в лоб. Кузя безразлично слушал, а может, и не слышал ничего, и Оксана всем своим существом чувствовала, что сын страдает. Она измерила ему температуру. Температура была нормальной.
Когда Кузя наконец уснул, Оксана стала думать, что делать дальше. Ей пришло в голову завтра подойти к Вике, поговорить, а потом пригласить к себе — посмотреть диафильмы или послушать детские пластинки со стихами, с песнями или еще что-нибудь придумать… Может быть, даже придумать какой-то праздник — купить торт, устроить чаепитие. Надо приглашать ее в дом, и почаще, Кузя тогда привыкнет к ней, увидит, что она самая обыкновенная девочка, нет в ней ничего особенного.
Вечером она опять заговорила с Николаем о своей беде. Но с Николаем трудно было говорить на эту тему, он чуть не смеялся над ней, не верил в серьезность происходящего, и Оксана злилась и не могла найти слов и доводов, чтоб убедить его в своих опасениях.
Вот и сегодня, горя от обиды и боли за сына, разозленная равнодушием Николая, вскипела;
— Так бы и убила эту девчонку!
Николай расхохотался. Хохотал, мотая головой, хватаясь за грудь.
— Если уж ты сейчас убить готова, то что будет потом? Хорошая из тебя свекровь получится, ничего не скажешь.
Для Оксаны это было громом с ясного неба. Свекровь? Значит, ей когда-то придется не так, как сейчас, а всерьез бороться за сына? Станешь ли тогда отвлекать его рассказами о цирке или обещанием купить игрушку? Да и с кем придется бороться? Это ведь будет уже не девочка — женщина, и неизвестно какая. Но почему обязательно бороться? Разве обязательно это будет плохая женщина, злая, вздорная, которая сломит Кузю, захочет, чтоб он полностью принадлежал только ей? Оксана сейчас не спит, думает о нем, мучается, а потом, когда он вырастет, она — что же — и прав на него не будет иметь? Будет подлаживаться к той женщине, чтоб разрешила любить сына? Может, потому Оксана и не любила Евгению Петровну, что та не подлаживалась к ней, вела себя так, как считала нужным вести себя с сыном, которого, родила, воспитала, дала образование… Только жену он выбрал себе сам, и этой жене мать его сразу стала лишней, ненужной.
Однажды Евгения Петровна принесла коробку мармелада, сказала, что Коля очень любил его в детстве. Оксана тогда ответила, что его детство давно кончилось, у него самого есть ребенок. Евгения Петровна промолчала, но Оксана и сейчас помнит ее потемневшее лицо. Каково ей было слышать эту отповедь: мол, что твоему сыну надо — на это мне наплевать, а что надо Моему Мужу — про то мне лучше знать. А как ее коробило, когда Евгения Петровна называла Николая Корюшкой. Именно поэтому она ни разу не назвала его иначе как Николаем, подчеркивая, что он мужчина. А мужчины, оказывается, так любят свои старые прозвища! Недавно в троллейбусе один солидный, лысый уже мужчина вдруг на весь автобус завопил: «Лапоть, здорово!» И здоровенный «Лапоть» так и взвился: «Микешка! Откуда свалился?» И весь троллейбус улыбался. Только жена «Микешки» хмурилась: женам не нравятся детские прозвища мужей. Если надо — свои дают, вроде «папочки». И Кузя, когда вырастет, тоже для его жены никак не будет Кузей, а Кузьмой. И то, что она, Оксана, будет называть его по-старому, будет казаться ей неприятным, злить. Значит, и в этом ей придется перестраиваться?
Вспомнилось, как Евгения Петровна украдкой совала Николаю в карман деньги — трешки, пятерки. Оксана старалась не замечать этого, а Николай приносил вино, пирожные… И она не спрашивала, на какие деньги купил, хотя прекрасно знала, что всю получку он отдает ей. Какое ее дело, что его мамочка балует своего «Корюшку», она ведь не просит об этом. Хотя, конечно, пирожные уписывала за обе щеки. И от вина не отказывалась, иногда еще и ворчала, что лучше бы он принес яблок или апельсинов.
Оксана не замечала, что стонет в темноте от стыда.
«Боже, какой я сегодня воротничок из вологодских кружев видела! Мечта! Правда, дорогой», — сказала однажды Евгения Петровна. Оксану тогда передернуло: она, молодая, не мечтает о таких вещах, а старуха… В конце концов, взяла бы и купила, а не намекала, что тратится на них. Почему тогда казалось, что намекает? Просто сказала, и, действительно, могла себе купить воротничок, но тогда не купила бы Кузе ботиночек или костюма. Не принесла бы в подарок люстру. Ведь даже то, что она ходила в парикмахерскую, Оксана ставила ей в упрек. Значит, все, что бы Оксана ни стала делать, будет осуждаться, истолковываться вкривь и вкось. И Кузя не посмеет заступиться за мать, а заступится — значит, ссора из-за нее, неприятности. Она будет причиной неприятностей сына в его семье!
Оксана встала с постели, прошла в кухню, включила свет и села к столу.
После смерти свекрови оказалось, что у нее на книжке приличные сбережения. Для чего откладывала? Чтоб под старость не брать ничего у сына, не быть его семье в тягость? Или для них же, на случай болезни, на «черный день»?
Заспанный вышел в кухню Николай:
— Тебе что, плохо?
В его глазах было столько тревоги, что Оксана обхватила его руками за шею, уткнулась головой в родное тепло и горько, взахлеб заплакала:
— Ничего, Коленька, просто… до чего
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)